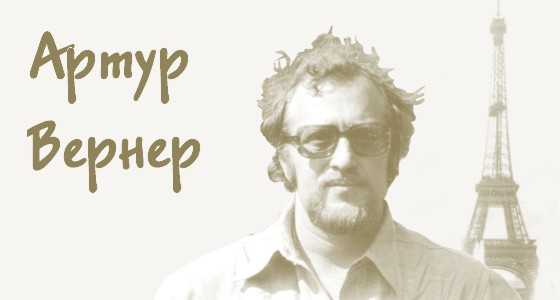АКУЛЫ ИЛИ ДЕЛЬФИНЫ?
Немногим более двух лет назад я писал о том, что мне не нравится, когда в
фигурном катании применяют метод ресторана: готовит блюдо повар, а несёт его
гостям официант. В той статье речь шла об одном из лучших тренеров мирового
одиночного катания Викторе Кудрявцеве, от которого к Елене Чайковской
перекатилась Мария Бутырская, а к Татьяне Тарасовой - Илья Кулик.
С тех пор по льду российского фигурного катания протекло много воды. Елена
Чайковская переманила у Марины Кудрявцевой чемпионку мира среди юниоров Юлию
Солдатову и чемпионку Австрии Юлию Лаутову, к Татьяне Тарасовой перебежал
чемпион мира Алексей Ягудин, да и Тамара Москвина перед отъездом в США
запаслась довольно солидным багажом из пары Татьяна Тотьмянина - Максим
Маринин и Светланы Николаевой, позаимстванным у Натальи Павловой и Николая
Великова.
Российская пресса тут же начала колоть бока удачливых тренеров острыми
перьями защиты тех, от кого ушли их ученики. При этом она как-то не
заметила, что Москвина начала тренировать и американскую пару Киоко Ина -
Джон Циммерман, но американским СМИ даже в голову не пришло обвинять её в
"перехвате". У одного питерского журналиста мне даже довелось прочесть такой
"шедевр" изящной словесности: "Очередной жертвой аппетитов Москвиной пал
Николай Великов..."
Мне, конечно, чрезвычайно жаль моего хорошего друга Николая Великова, но я
уверен, что он сумеет выбраться из желудка Тамары Москвиной, куда спустил
его мой молодой коллега, и, кстати, не пора ли, как учил нас Козьма Прутков,
попытаться <узреть в корень> и выяснить, во всём ли виноваты одни только
падкие до злата медалей тренеры Тамара Москвина, Татьяна Тарасова или Елена
Чайковская? Кто они для фигуристов - акулы, которые хотят сожрать
спортсменов или дельфины, которые хотят помочь им выплыть на поверхность? И
не пришло ли время задаться вопросом: почему спортсмены уходят от тренеров,
давным-давно ставших им родными людьми?
В живописи, скульптуре, мультипликационном кино и литературе шедевры
проходят несколько этапов создания. Возьмём картину: сначала полотно
грунтуют. Это делает ученик. Затем подмастерье по намётке художника
накладывает в нужных местах нужные краски. И только в конце за дело берётся
мастер. Он-то и доводит картину до конца и придаёт ей тот блеск, которым
отличается произведение искусства от ремесла.
То же самое происходит и в фигурном катании, в котором всегда существовали
первые тренеры, вторые и... последние, которые одни только и могли довести
своих воспитанников до золотых, серебряных или хотя бы бронзовых медалей,
потому что знали, как это сделать. Ничуть не сомневаясь в высоком
профессионализме большинства российских тренеров, хочу всё-таки подчеркнуть,
что во всём мире фигурного катания существует сравнительно небольшая обойма
тренеров-звёзд, которые дают ему золотоносных фигуристов.
Каждый тренер способен дать своим ученикам не больше того, что у него есть,
и, видимо, в какой-то момент некоторые спортсмены чувствуют, что им этого
мало. Это и есть первая причина поисков нового тренера, ибо плох тот солдат,
который не стремится стать генералом.
Вторая, на мой взгляд, причина ухода спортсменов - нездоровая обстановка в
тренерском лагере. В отличие от западных, чей контакт с учениками
заканчивается немедленно после тренировки, российские наставники нередко
впускают своих питомцев в свою личную жизнь. Поэтому ученики очень хорошо
чувствуют и очень болезненно реагируют на все события, происходящие как в
спортивной, так и в личной семье своих спортивных "родителей". Я бы мог
привести пару конкретных примеров смены тренера именно по этой причине, но
не считаю, что подобные факты должны быть известны широкой публике.
Вскоре после опубликования моей уже вышеупомянутой статьи, в первый день
чемпионата мира 1997 года в Лозанне, Татьяна Тарасова спросила меня,
действительно ли я считаю её в случае с Куликом официанткой. Я предложил
великому танцевальному тренеру отложить ответ на этот вопрос до окончания
соревнований в мужском одиночном катании. В тот раз наш разговор продолжения
не получил, но через год, после победы Ильи Кулика на Белой Олимпиаде в
Нагано, я поздравил Татьяну Анатольевну с приобретение звания кулинара
высшей квалификации и в этом разделе фигурного катания. Годом позже новый
ученик Тарасовой Алексей Ягуудин стал чемпионом Европы и мира 1999 года.
Елена Чайковская, чей талант женского тренера остался для меня пока скрытым,
всё-таки сумела дать Марии Бутырской то, чего ей не хватало у Кудрявцева -
чувство уверенности в себе, и Маша сумела наконец-то доказать, что кое-кто
из журналистов не зря давно уже называл её лучшей фигуристкой мира. Правда,
другая "перебежчица" из лагеря Кудрявцевых, Юлия Лаутова, у той же
Чайковской стала кататься хуже.
Может быть, кому-то из моих читателей показалось, что я выступаю в защиту
"тренеров-перехватчиков". Нет, это далеко не так, и я прекрасно понимаю
чувства тех, кто долгие годы делил со своими учениками стол и кров, беды и
радости, успехи и поражения. Однако, переходы спортсменов от одного тренера
к другому были, есть и будут, процесс этот практически необратим, и
единственным утешением оставленного воспитателя должно быть, на мой взгляд,
возмещение ему морального и материального ущерба. Фамилию прежнего тренера
следует упоминать наравне с фамилией нового, а положенное воспитателю
материальное вознаграждение фигурист должен делить между обоими - хотя бы в
первые один-два года. И, если фигурист не сочтёт нужным придерживаться этого
правила, напомнить ему об этом должен его новый наставник.
"Спорт-калейдоско" @ 15,12.4.1999
|